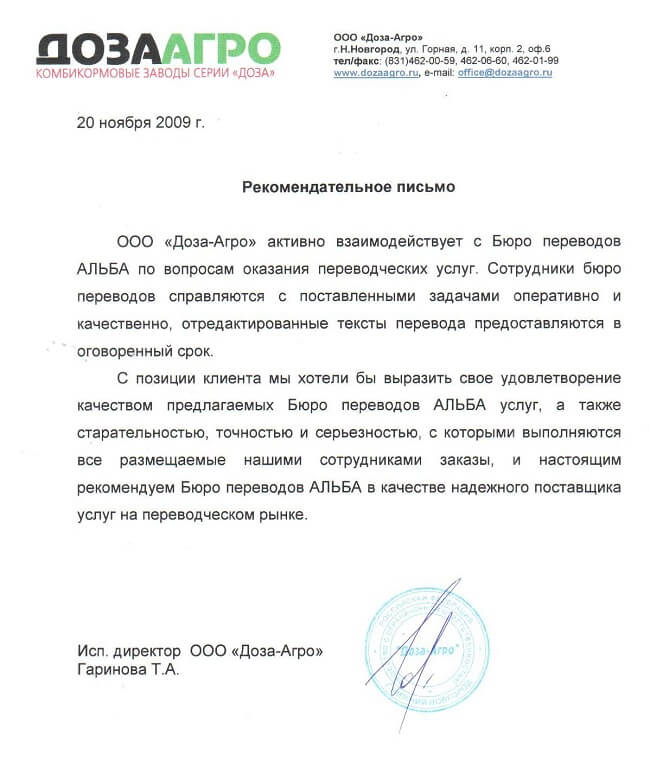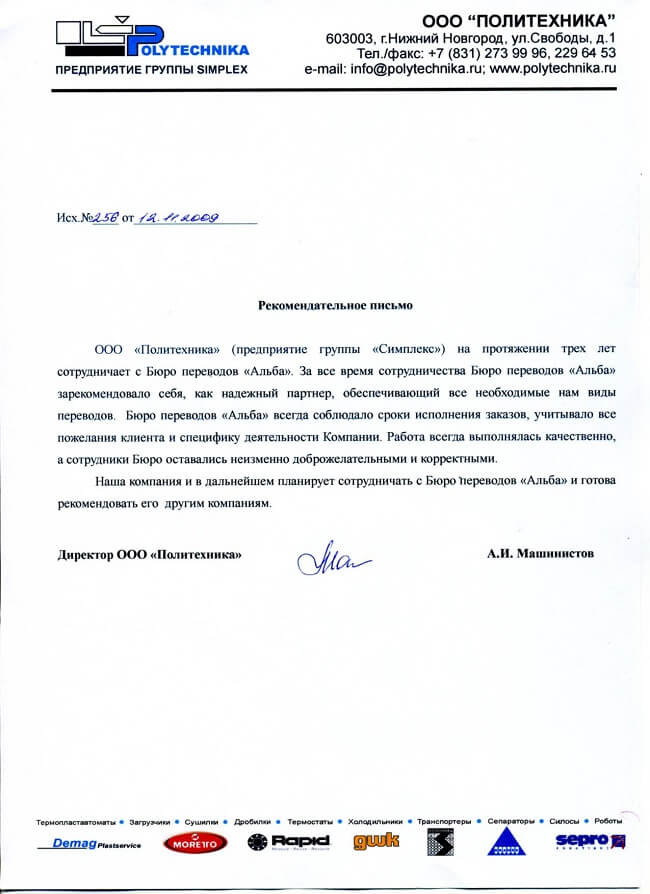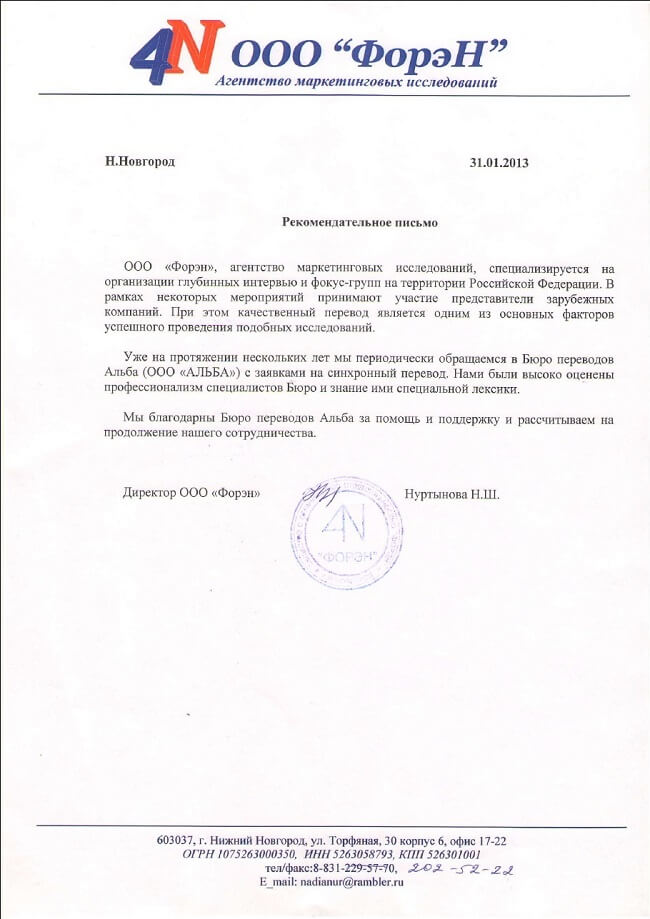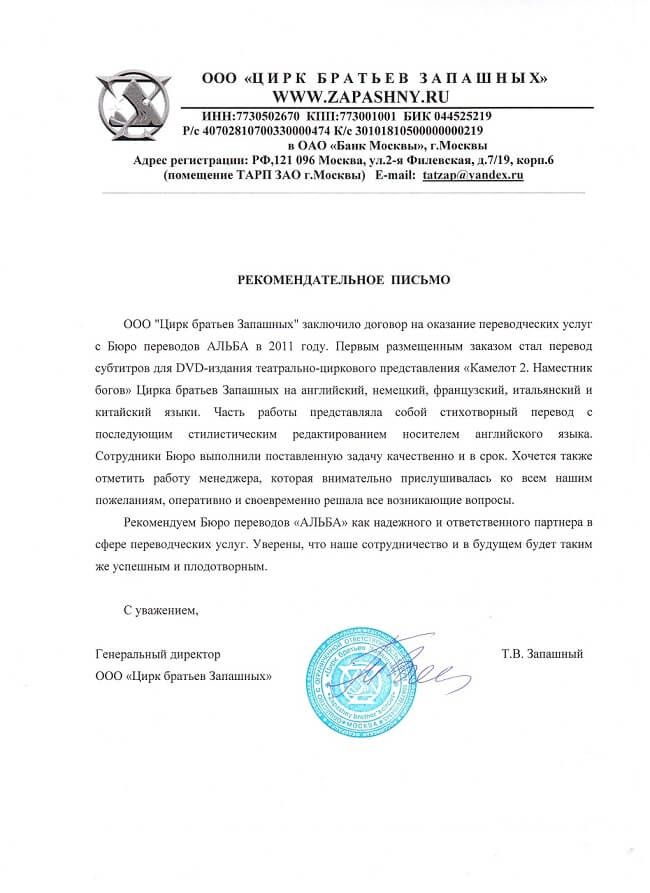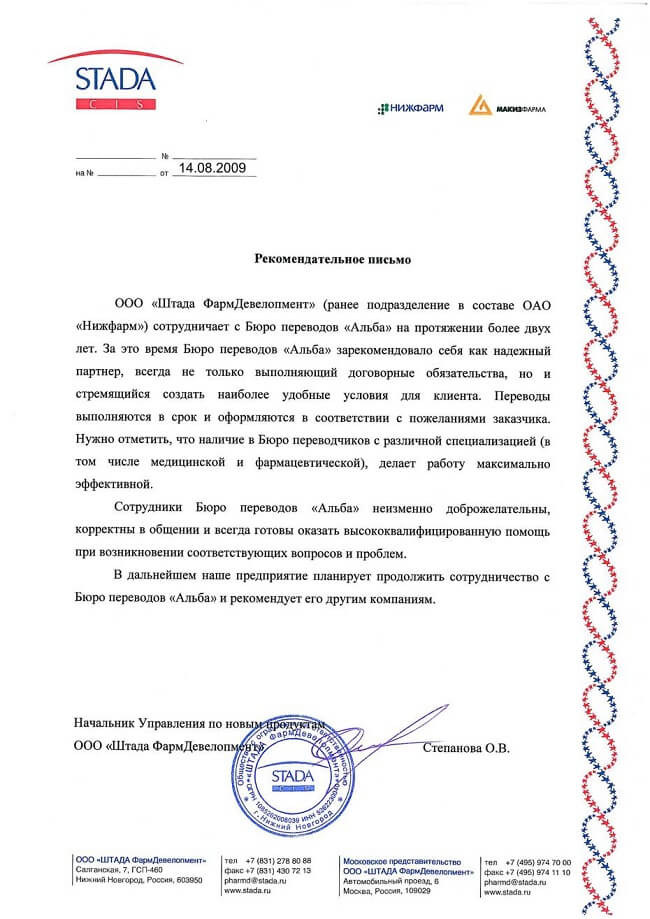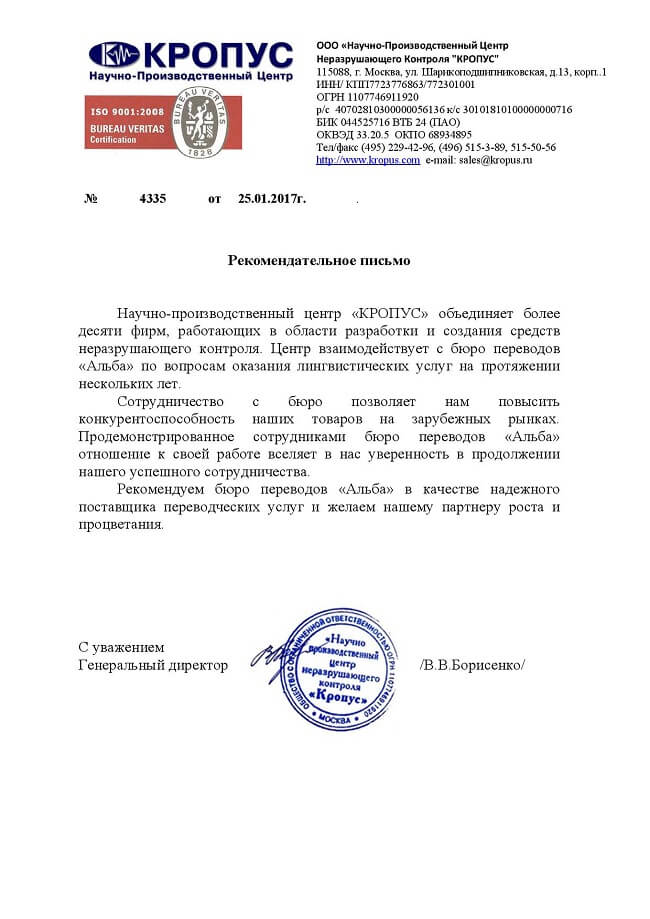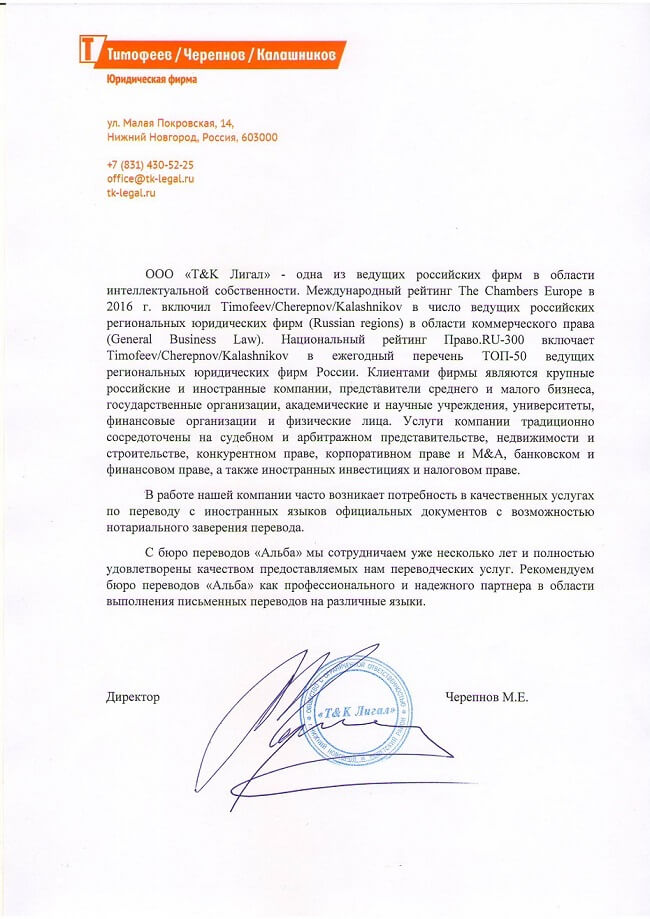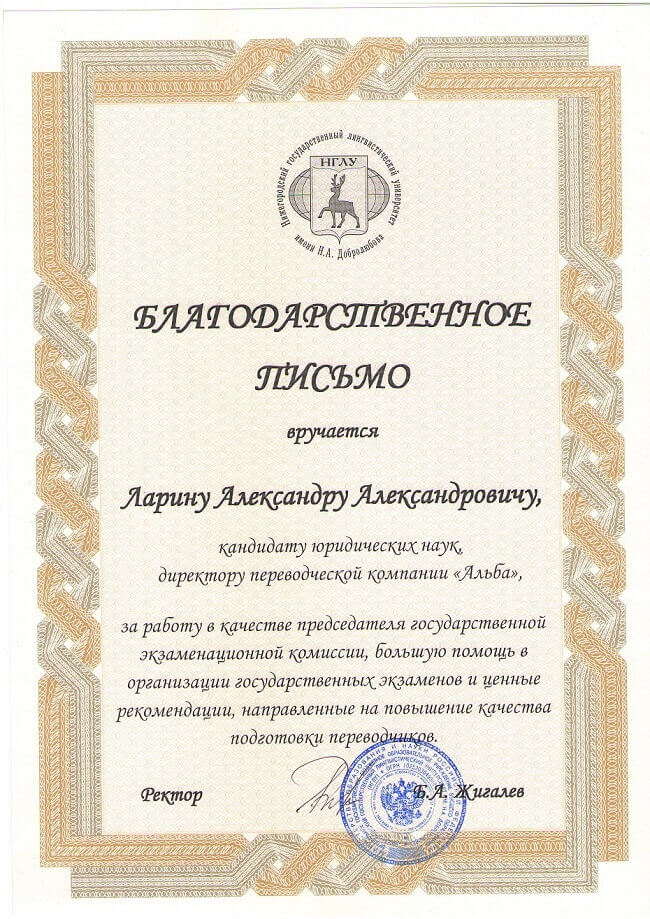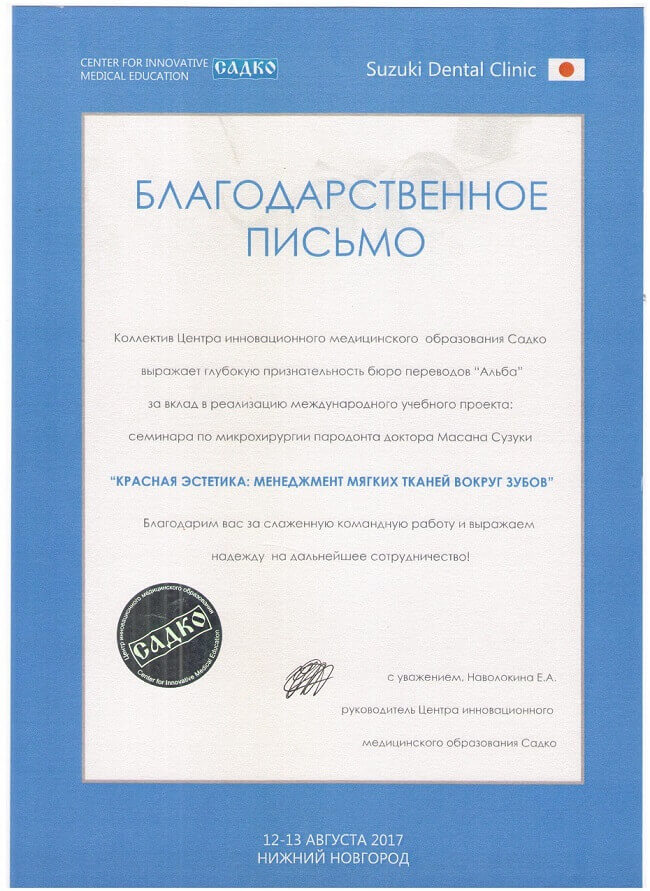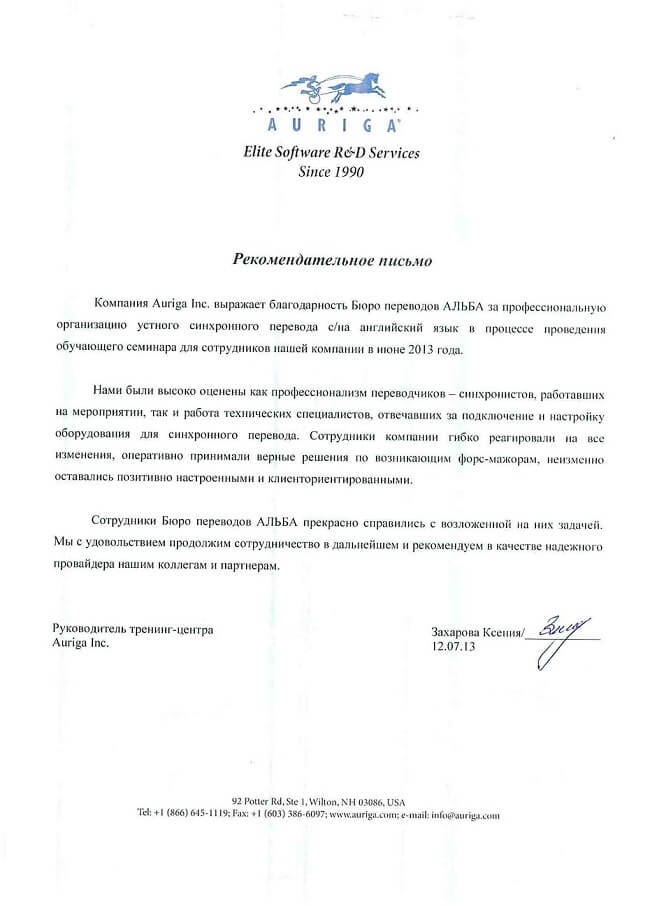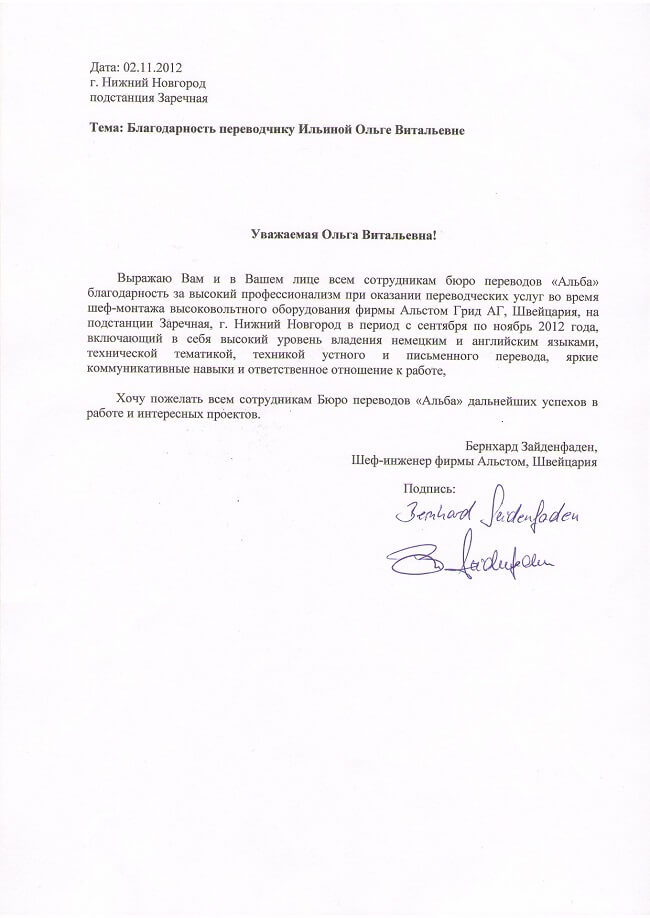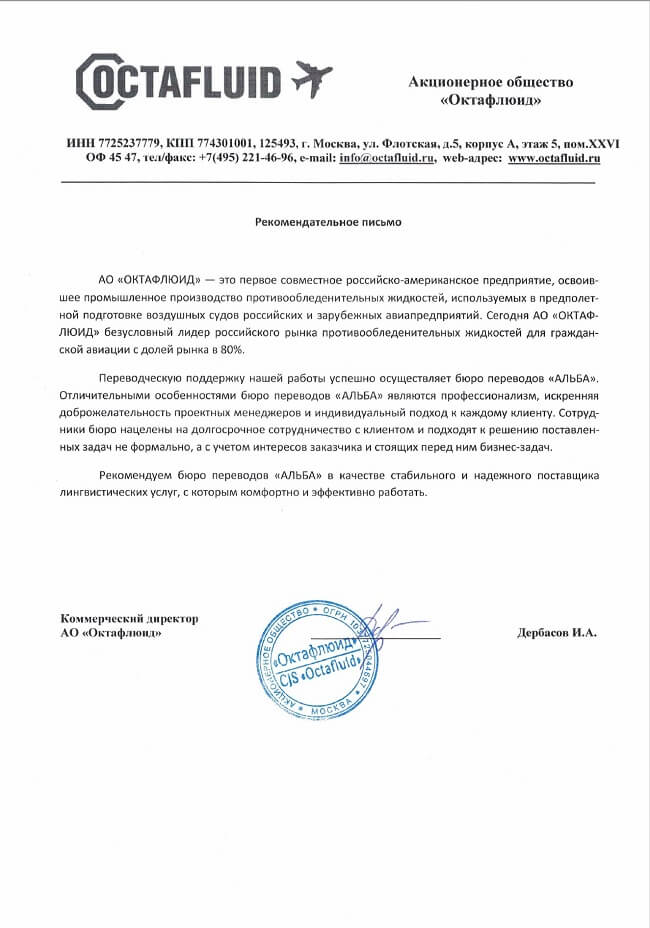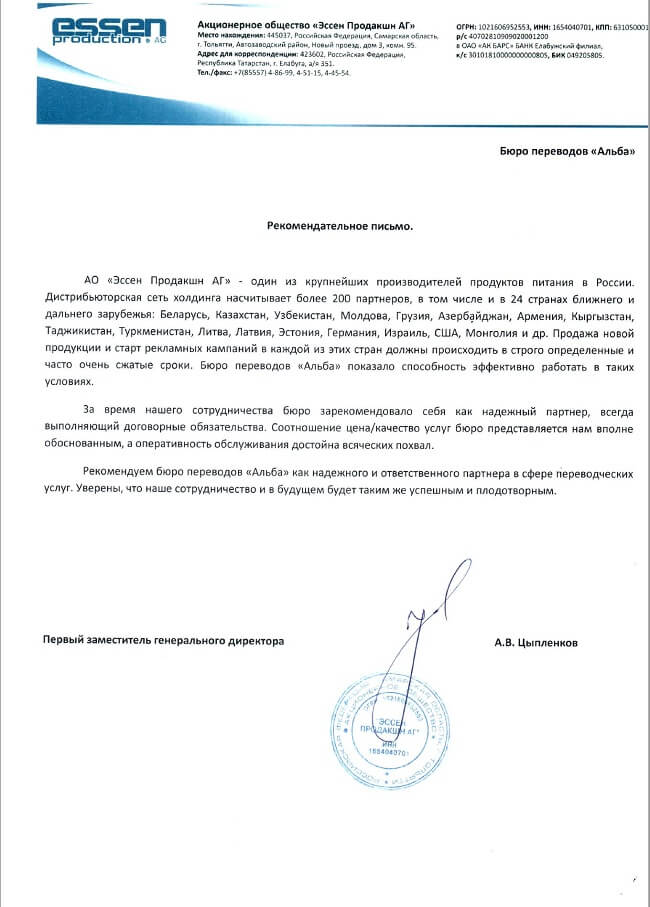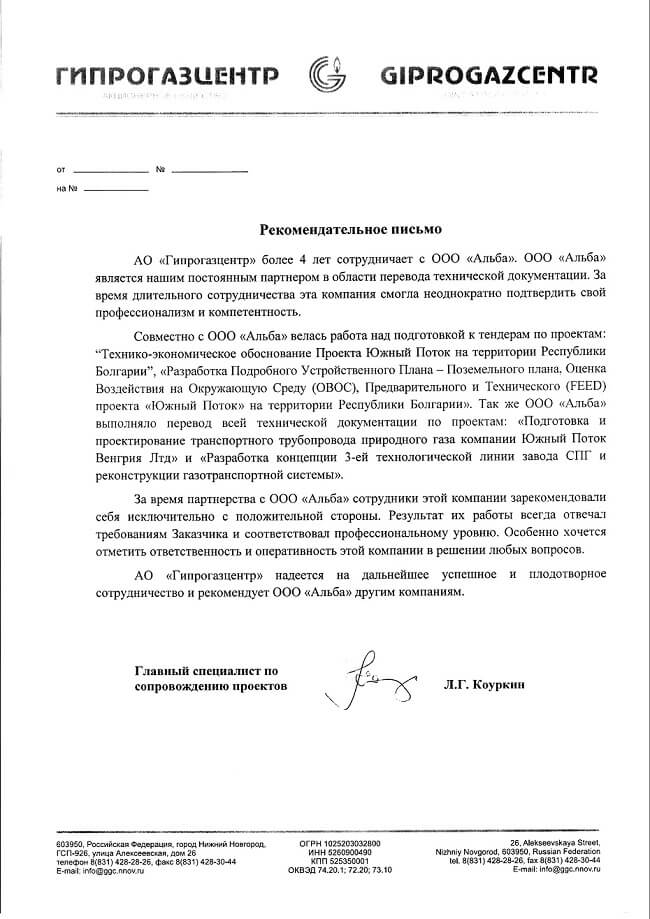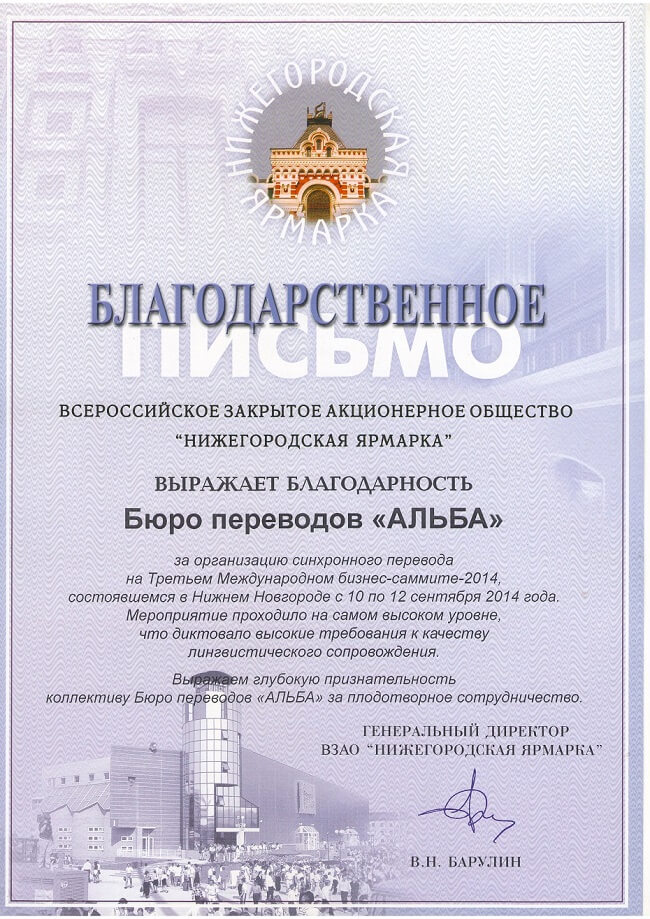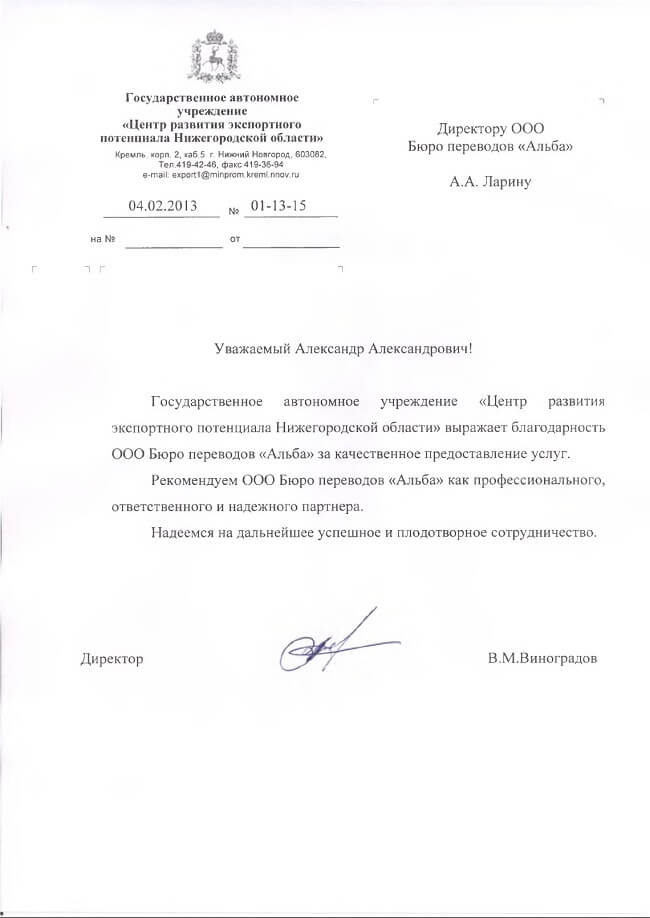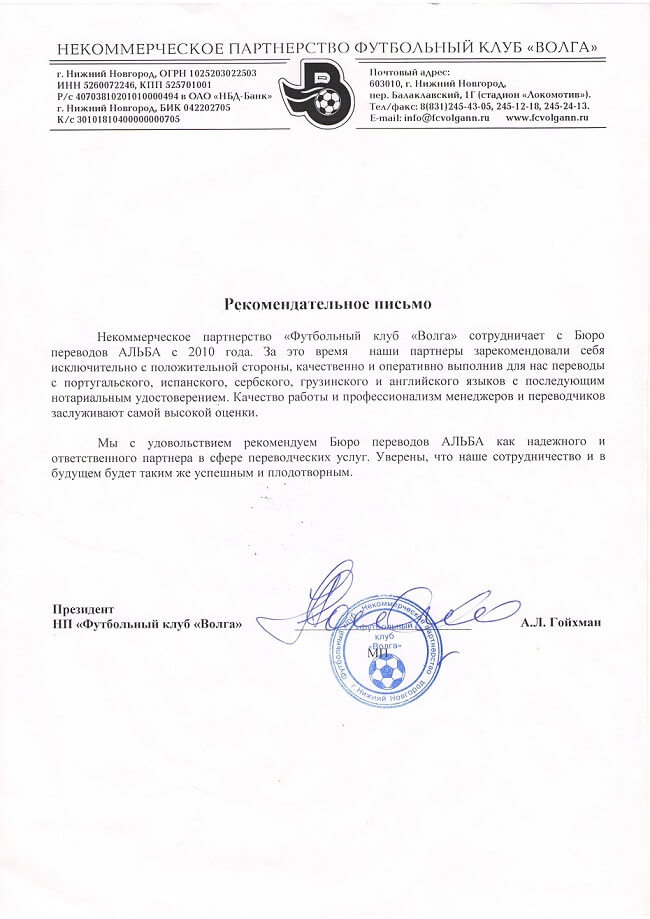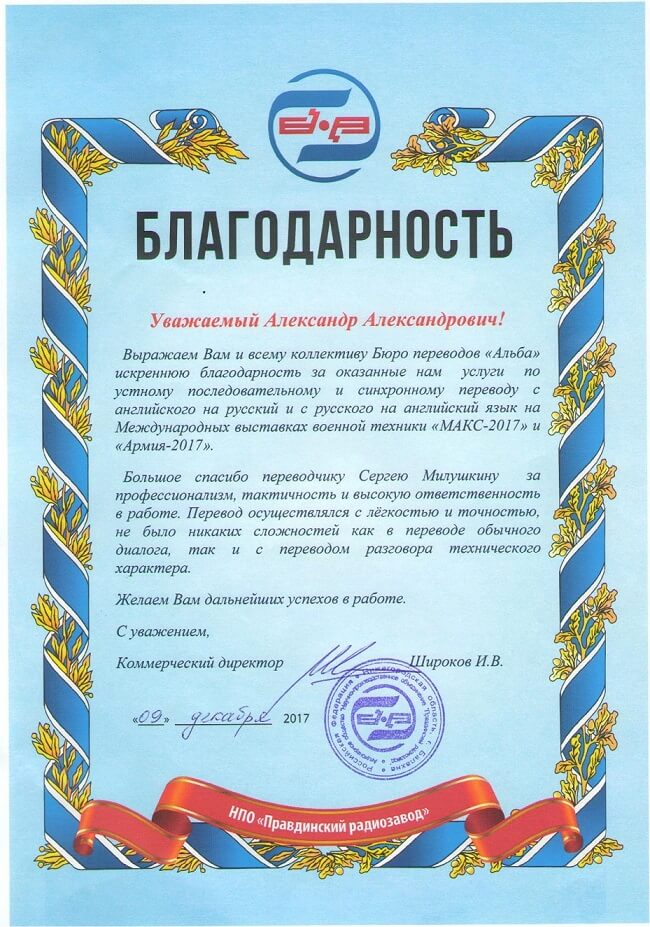Метафорическое использование английского предлога ON
Автор: Злобина Ирина Сергеевна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков неязыковых специальностей Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров
Уткина Надежда Вениаминовна, кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры иностранных языков неязыковых специальностей Вятского государственного гуманитарного университета, г. Киров
Статья подготовлена для публикации в сборнике «Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода».
В статье ставится задача дать обобщенную интерпретацию ряда понятий современной когнитивной семантики, необходимых для анализа метафоры. В соответствии с центральным принципом когнитивной семантики, концепты, хранимые в мышлении, не являются изолированными, атомарными единицами. Они могут быть поняты только в контексте структур фоновых знаний. Наиболее общим термином для таких структур является домен [3; с. 26]. Домен представляет собой связную область концептуализации, относительно которой характеризуется семантическая единица. В широком понимании доменом может быть любой концепт или область опыта.
Значение языкового выражения сводится не только к активируемому им содержанию, важно и то, как это содержание интерпретировано. Феномены, связанные с интерпретацией, это – фокусировка (focusing), перспективизация (perspective), спецификация (specificity) и высвечивание (prominence) [7]. Спецификация предопределяет степень детализации информации, фокусировка предполагает выбор содержания и его организацию, перспективизация же включает различные аспекты соотнесения «наблюдателя» (говорящего и слушающего) и «наблюдаемого» события. К высвечиванию принадлежат такие когнитивные операции, как профилирование и соположение траектора и ориентира. Говоря о профилировании, Лэнекер дает определения концептуальной базы и профиля, важные для понимания сути значения языкового знака. Концептуальная база есть весь объем информации, активируемый знаком. Профилем же является та часть базы, которая формирует само значение данного знака. Языковые отношения профилируют предметы и отношения. Профилирование определяется как различие по содержанию – смыслу.
При профилировании отношения его участники имеют различную степень высвеченности. Более высвеченный участник есть траектор, менее высвеченный – ориентир. Траектор является первичным, а ориентир – вторичным семантическим фокусом. Для понимания значения языкового знака необходимы оба. Различие траектора и ориентира связано с различиями в значении предлогов, которые описывают положение своих аргументов по отношению друг к другу, причем траектор профилирует свой аргумент, а ориентир играет подчиненную роль аргумента, относительно которого квалифицируется статус аргумента – траектора. Например, «книга под тетрадью» и «тетрадь на книге» описывают одну и ту же ситуацию пространственного положения двух вещей относительно друг друга, но различаются тем, какая из двух вещей профилирована как траектор и помещена в фокус внимания, а какая – служит ориентиром для профилируемого аргумента пространственного отношения.
Представители когнитивной семантики не рассматривают метафору как нарушение говорящим определенных законов языка [1, 6, 7]. Они утверждают, что метафора – это механизм повседневного языка концептуальной структуры, с помощью которого абстрактные и нематериальные области опыта можно представить в знакомых и конкретных терминах. Суть метафоры состоит в понимании и выражении одной вещи посредством другой [1; с. 24]. По мнению Лакоффа, метафора обозначает отношение между двумя доменами в концептуальном поле. Базисная конструкция, которая была названа Лакоффом "метафорической концепцией", может быть интерпретирована как устойчивая структура в наших концептуальных полях.
Метафора относится к сфере мышления, а не языка. Язык пространства чаще всего используется там, где язык никакой другой концептуализации не предлагает. Сознание в большей степени зависит от языка, идеи без слов не существуют, они возникают на их базе, мысль ведома метафорами. Ни одна метафора не зарождается, если нет концепта. Метафора вторичнее концепта; она следует за тем, что родилось в голове. Этот зародившийся концепт определяет путь поиска нужных слов для выражения мысли [1; с. 28].
Лакофф предусматривает "возможность того, что многие области опыта метафорически структурированы с помощью довольно небольшого числа образов-схем" [5; с. 271]. Метафоры – это отображение концептуальных областей, которые устанавливают соответствие между объектами в отображаемом и исходном доменах. Система условно концептуальной метафоры бессознательна, автоматична, и постоянно используется, она занимает центральное место в нашем понимании опыта, часть ее универсальна, часть – культурно обусловлена. Наиболее важными метафорами являются те, которые встроены в язык, так как они систематизируют понятийную (когнитивную) систему говорящего.
Если исходить из того, что метафоризация, описанная Лакоффом и Джонсоном, основана на взаимодействии двух структур знаний – когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели», то в процессе метафоризации некоторые области цели структурируются по образцу источника и происходит «метафорическая проекция» или «когнитивное отображение». Предположение о частичном воспроизведении структуры источника в структуре цели стало основой для одного из главных принципов теории Лакоффа –"принципа инвариантности", утверждающем, что метафорическое отображение сохраняет когнитивную топологию (т.е. структуру образа-схемы) отображаемой области (домена) в той степени, в которой она согласуется с внутренней структурой другой, участвующей в отображении области. С одной стороны, это означает, что получившиеся модели исходного домена остаются нетронутыми в отображаемом домене, а с другой стороны, когда получившаяся модель отображаемого домена согласуется полностью или частично с исходным, то возможно лишь ее метафорическое отображение [2, 8]. Кроме того, общий уровень структуры отображения должен согласовываться и сохранять любые контекстуальные эффекты, возникающие в тексте, где используются метафорические выражения [9; с. 53].
Основная концептуальная схема. Различные способы восприятия пространства могут вносить различные аспекты в создание пространственных гештальт. П. Дин [4; с. 115] считает, что человек воспринимает и осмысляет три вида пространственных образов:
а) Визуальные. Они представляют собой пространственные отношения с точки зрения разделения, непрерывности, угла зрения, и любых аспектов, связанных с положением субъектов по отношению друг к другу, т.е. их топологических отношений.
б) Двигательные. Этот вид восприятия обрабатывает информацию относительно контроля движения и способности взаимодействовать с другими людьми, объектами и самим собой.
в) Кинетические. Эти образы кодируют информацию, необходимую для подсчета динамического взаимодействия, пути, направления осей, гравитации, взаимной ориентации участников и пр.
Эти аспекты восприятия прослеживаются и в человеческом опыте. Они имеют долингвистический характер и являются частью телесного опыта человека. Осмысление отношений траектор-ориентир являются толчком для появления новой концептуальной схемы. Концептуальная схема предлога ON сочетает в себе три вида схемы-образа, определяющие три конфигурации: топологическую, функциональную и динамическую. Исходная концептуальная схема будет применяться к категоризации новых впечатлений, часть которых будет не совсем отвечать всем требованиям, и поэтому концептуальная схема предложит основу для новых впечатлений, преобразуя исходную образную схему. Кроме того, частичное разрешение схемы будет в основном состоять из выделения или подчеркивания различных аспектов воспринимаемого пространства. Концептуальная схема лексической единицы ON объединяет топологические отношения двух взаимосвязанных объектов, их функционирование (один из них осуществляет контроль над другим), и их модели динамического взаимодействия (как правило, по вертикальному направлению вверх-вниз). Для концептуальной схемы предлога ON в физическом домене за основу берутся следующие конфигурации [8; с. 115]:
1. Траектор достигает или осуществляет контроль над ориентиром или самим собой через контакт его свободной части с внешней стороной ориентира. Это соотношение называется основа.
2. В соответствии с топологической конфигурацией, траектор и ориентир находятся в контакте, или, как правило, стремятся к этому.
3. В соответствии с функциональной конфигурацией, взаимодействие между траектором и ориентиром, где траектор имеет контроль над ситуацией, ожидаемо.
4. В соответствии с динамической конфигурацией, траектор и ориентир определяют общую ось, по которой их отношения принимают определенную направленность. Эта ось прототипична вертикальной оси, аналогично канонической позиции человека стоять на месте, когда свободная часть определяется подошвами ног. Сила траектора прототипична давлению вниз.
Концептуальная схема определяет отношения основы. С точки зрения ориентира, траектор является обузой, бременем, а с точки зрения траектора, ориентир – это поддерживающий объект. Например,: “He preferred sleeping in bed with his head on a pillow”.
Метафорическое использование предлога ON
Метафоры основы. В следующих метафорах ориентир отображается на поддерживаемый объект:
1. Причины (для принятия решения, результата, действия и т.д.): глаголы blame on, on impulse, on charge.
2. Помощь (получаемая или предлагаемая помощь является основой для действий, развития и т.д.): lean on, count on, rely on, depend on, back on, hang on, hinge on, be based on.
3. Средства, ресурсы: draw on, live on, feed on, leech on, bet on, trade on, sustain somebody on, nourish on, capitalize on, profit on, dine on, fatten on, gorge on.
4. Аргументация: base on.
5. Мотивы (для принятия решения, ведения определенной политики, действий, отношений): congratulate on.
6. Теории (эта метафора часто используется в языке для описания научных и других теорий, для выражения их конструктивного характера, где аксиомы или принципы являются основой для последующих теорем): rest on the thesis.
В метафорах обязательства (the responsibility laid by … on), расходы (tax on), штрафы, наказания (lift on), траектор отображается как бремя.
Метафоры, основанные на кинетических (двигательных) образах. Предлог ONв контексте согласовывается с лексическими единицами, выражающими движение. Наблюдаются следующие закономерности:
1) Движение, заканчивающееся в поддерживающем объекте: lounge, deposit, set up, learn, recline, put down, land, lay, put, hang, settle.
2) Движение, заканчивающееся контактом с ориентиром и контролем над ним: tread, push, press, pressure, impinge, prey, grasp, step.
3) Движение, заканчивающееся контактом: fall, sink, throw, cast, hurl, fling, dash, spit, shed, drip, drop. Связь траектора с ориентиром могут устанавливать такие глаголы как beat, strike, smite, punch, hit, bump, bang, thump, tap, slap, pat, clap, rap, knock, kick, hammer, drum, blow, jump, splash, smash down, plunk down, thwack, hurtle.
4) Движение, стремящееся к контакту и контролю над ориентиром: attack, be, march, advance, turn.
5) Траектор становится частью ориентира через контакт: add on, attach on, build on, take on.
Данные образы обеспечивают структуру исходного домена следующих метафор:
1. Свет – флюид (сущ. – shadow, shade, colour, brightness,гл.– shine, cast, beam, reflect, blaze).
2. Действия – направляемые движения (smile, frown, scowl, laugh, grin, wink).
3. Инвестиции – вливания (waste, spend, disburse, lavish).
4. Взгляд – прикосновение (look, glance, peep, stare, gaze, glare, pore, peer, set eyes on, fix one’s eyes on).
5. Физические явления – зачинщики конфликта (fall, descend, creep, touch).
Метафоры, основанные на топологических образах (контакте):
1) Контакт (частичное одобрение концептуальной схемы здесь приводит к контакту траектора и внешних границ ориентира): hands onthe cup.
2) Привязанность (часть траектора привязана к ориентиру): глаголы engrave, stamp, paint, print, write.
3) Траектор – часть ориентира (траектор понимается как часть внешней стороны чего-либо): nose on face, expression on face, ears on head, peaks on mountain; или как часть, привязанная к целому: heels on shoes.
4) Четко выраженный контакт (точное указание положения траектора и ориентира): выражения on the one hand … on the other hand, on the contrary, on the part of, on behalf of, on the edge.
5) Контакт с четкими границами: street, square, park, lake, road, river, sea, bay, way, track, coast, shore, beach, bank.
Эти образы являются исходным доменом для следующих метафор:
1. Присутствие – контакт (on exhibit, on display, on view).
2. Группа – это целое (team, staff, committee, board, commission).
Метафоры, основанные на функциональных образах (контроле). Образная схема контроля основывается на частичном ограничении концептуальной схемы. В качестве примера отношений контроля можно привести следующие шаблоны:
1) Места, где живут люди (государства, штаты, фермы), контролируемые людьми: live ona farm.
2) Здания и места, являющиеся центрами деятельности (фондовая биржа), находящиеся под контролем людей, работающих там. Города, улицы, рабочие места и т.д. рассматриваются как находящиеся под контролем определенного лица.
3) Человеческий контроль артефактов, машин, инструментов или обстоятельств в целом: work on, decide/decision on, focus on, policy on, act/action on, influence on, check on, play on.
4) Группы или институты, осуществляющие контроль над определенной частью общественной жизни.
5) Выражения, обозначающие определенный контроль людей за их деятельностью или другими людьми: be on sb., call on sb., shut the door on sb, on guard, on schedule, on alert, on duty, on the lookout, on call, on hand.
Схема контроля является исходным доменом для следующих метафор:
1. Видеть – значит контролировать (look on, focus on, give on, face on, spy on, keep an eye on).
2. Чувства – контролеры (A good feeling prevailed on).
3. Нормы – это контроль (prohibition on).
Итак, образное использование предлога ON не хаотично. Мотивация может быть прослежена на образных схемах этого предлога. Концептуализация основана на языковых данных, а также на телесном и социальном опыте. Большинство отображений проектируют всю концептуальную схему на абстрактные домены, другие отображения проектируют одну из образно-схематических структур в рамках концептуальной схемы (топологические, функциональные или динамические образы). Принцип инвариантности определяет, какие абстрактные области доступны в качестве целевых доменов. Таким образом, показано, что идиомы и словосочетания с предлогом ON семантически мотивированы метафорическим отображением, чей исходный домен является концептуальной схемой, которая возникает в виде комбинации трех измерений: топология (контакт), функция (контроль), и динамическое взаимодействие.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М.: Едиториал УРСС. 2004.
2. Brugman, C.M. What is the Invarience Hypothesis? Cognitive Linguistics / C.M. Brugman. 1990. P. 257–266.
3. Clausner, T.C. Domains and image schemas [Text] / T.C. Clausner, W. Croft // Cognitive Linguistics. 1999. № 10-1. P. 1–31.
4. Deane, P.D. At, by, to, and past: An Essay in Multimodal Image Theory / P.D. Deane. – Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society 19. 1993. P. 112–124.
5. Lakoff, G. Contemporary theory of metaphor. Metaphor and Thought / G. Lakoff. – Cambridge: Cambridge University Press. 1993. P. 202–251.
6. Lakoff, G. The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas? Cognitive Linguistics / G. Lakoff. 1990. P. 39–74.
7. Langacker, R.W. Grammar and conceptualization / R.W. Langacker. – Berlin, New York: Mouton de Gruyter. 1999.
8. Navarro, I. A multimodal system for spatial semantics: the preposition ON. Estudios de Linguistica Cognitiva / I. Navarro. – Cifuentes, Alicante: Universitat d’Alacant. 1998. P. 767–788.
9. Ruiz de Mendoza, F.J. On the nature of blending as a cognitive phenomenon / F.J. Ruiz de Mendoza. – Journal of Pragmatics 30. 1998. P. 259–274.